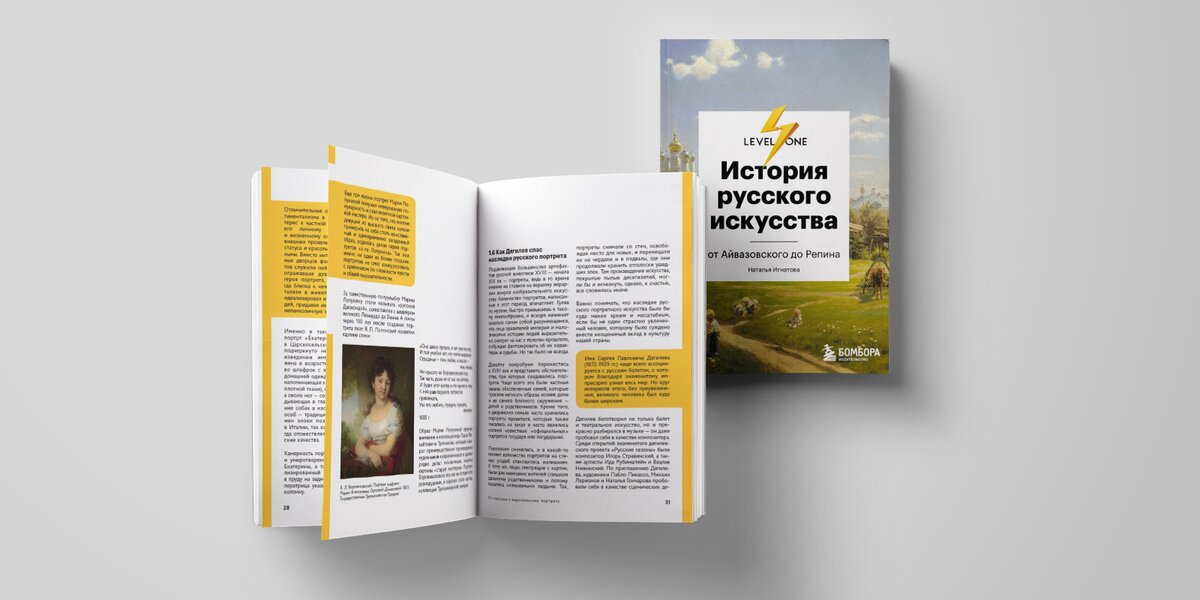
Арт-менеджер Дягилев и 4 000 портретов: прочитайте отрывок из книги «История русского искусства»
В издательстве «Бомбора» вышла книга «История русского искусства. От Айвазовского до Репина» Натальи Игнатовой для тех, кто хочет научиться разбираться в живописи. Автор рассказывает про главные события в мире художников за последние 200 лет — от главных представителей романтизма до особенностей творческих объединений. Публикуем отрывок про влияние Дягилева на наследие русского портрета.
Подавляющее большинство артефактов русской живописи XVIII — начала XIX вв. — портреты, ведь в то время именно их ставили на вершину иерархии жанров изобразительного искусства. Количество портретов, написанных в этот период, впечатляет. Гуляя по музеям, быстро привыкаешь к такому многообразию, и вскоре начинает казаться самом собой разумеющимся, что лица правителей империи и малознакомых истории людей выразительно смотрят на нас с полотен прошлого, побуждая фантазировать об их характерах и судьбах. Но так было не всегда.
Давайте попробуем перенестись в XVIII век и представить обстоятельства, при которых создавались портреты. Чаще всего это были частные заказы обеспеченных семей, которые просили написать образы хозяев дома и их самого близкого окружения — детей и родственников. Кроме того, в дворянских семьях часто хранились портреты правителя, которые также писались на заказ и часто являлись копией известных «официальных» портретов государя или государыни.
Поколения сменялись, и в какой-то момент количество портретов на стенах усадеб становилось излишним. К тому же, люди, смотрящие с картин, были для нынешних жителей слишком дальними родственниками и потому казались незнакомыми людьми. Так, портреты снимали со стен, освобождая место для новых, и перемещали их на чердаки и в подвалы, где они продолжали хранить отголоски ушедших эпох. Там произведения искусства, покрытые пылью десятилетий, могли бы и исчезнуть, однако, к счастью, все сложилось иначе.
Важно понимать, что наследие русского портретного искусства было бы куда менее ярким и масштабным, если бы не один страстно увлеченный человек, которому было суждено внести неоценимый вклад в культуру нашей страны.
Имя Сергея Павловича Дягилева (1872-1929 гг.) чаще всего ассоциируется с русским балетом, о котором благодаря знаменитому импресарио узнал весь мир. Но круг интересов этого, без преувеличения, великого человека был куда более широким.
Дягилев боготворил не только балет и театральное искусство, но и прекрасно разбирался в музыке — он даже пробовал себя в качестве композитора. Среди открытий знаменитого дягилевского проекта «Русские сезоны» были композитор Игорь Стравинский, а также артисты Ида Рубинштейн и Вацлав Нижинский. По приглашению Дягилева, художники Пабло Пикассо, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова пробовали себя в качестве сценических декораторов, что также чрезвычайно благоприятно сказалось на их карьерах. Будучи под его протекцией, мировую славу получил певец Федор Шаляпин. И даже сама Коко Шанель, создав костюмы для балета «Голубой экспресс», совершила очередную революцию в моде — на этот раз в пляжной.
Помимо всего прочего, Сергей Павлович Дягилев был одержим изучением русской живописи XVIII века. В 1902 году, когда ему было 30 лет, вышла его книга о знаменитом русском художнике Дмитрии Левицком, отмеченная Уваровской премией Академии наук.
В 1904 году, за 4 года до появления «Русских сезонов», Дягилев взялся за невероятно амбициозный проект — историческую выставку портретного искусства, созданного в период с 1705 до 1905 гг.
В рамках подготовки выставки Дягилев, который уже тогда славился своими выдающимися организаторскими способностями, лично посетил множество дворцов и дворянских усадеб с просьбой достать с чердаков давно забытые портреты предков. Кроме того, он заблаговременно получил государственную субсидию для организации экспозиции и разрешение для ее проведения в Таврическом дворце Петербурга.
На выставке можно было увидеть более 4000 портретов. Она стала грандиозным событием и имела огромный успех — никогда ранее русский портретный жанр не раскрывался так полно. Жемчужиной экспозиции стали забытые полотна XVIII столетия. Впервые, спустя век, на зрителей с картин смотрели их предки — дамы в напудренных париках и платьях пастельных тонов по последней моде рококо и импозантные мужчины в бархатных камзолах. Никогда еще прошлое не казалось таким близким и актуальным, никогда изобразительное искусство того времени не было таким ярким источником новых мыслей и вдохновения. Организованное Дягилевым мероприятие стало настоящим открытием и возрождением русского портретного жанра XVIII века.
Мстислав Добужинский вспоминал: «Для русской художественной культуры выставка имела очень большое значение: она дала возможность новых художественных сопоставлений и разных оценок, на ней было сделано и немало открытий, так как множество портретов было выставлено впервые. Целый ряд художников, в том числе Ге и Крамской, показались в ином свете, более значительными и привлекательными по живописи и тому, что особенно свойственно русскому портретному искусству, — психологичности или, точнее, душевности».
Подготовка к выставке проходила под личным контролем царя — именно он выступал личным поручителем при аренде произведений. В перечне картин значились больше 550 владельцев работ, из которых 149 находились в провинции, а 16 — за границей. Каталог выставки был составлен лично Дягилевым и включал 2228 статей-описаний произведений искусства, часть из которых он написал самостоятельно. Была проделана колоссальная
работа.
На торжественной церемонии открытия выставки присутствовал царь, так как подобное событие служило опорой российского самопознания в период неудачной для России войны с японцами. Дягилев на открытии держался в тени — ему не выражали официальную благодарность, хотя выставка и стала его самым большим триумфом на родине.
После мероприятия группа художников и любителей искусства из Москвы пригласила его принять участие в торжественном обеде в самом роскошном отеле города «Метрополь». Дягилев был польщен и подготовил речь, которая оказалась пророческой:
Во время революции 1905 года многие усадьбы, в которых Дягилев побывал со своей «портретной миссией», были уничтожены в результате поджогов. Выходит, Дягилев, сам того не ведая, сохранил для нас наследие портретного искусства России и показал миру забытые образы XVIII века.
Я заслужил право сказать это громко и определенно, так как с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жадных странствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я наблюдал не только в блестящих образах предков, так явно далеких от нас, но главным образом в доживающих свой век потомках. Конец быта здесь налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы, странно обитаемые сегодняшними милыми средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми. Здесь доживают не люди, а доживает быт. И вот, когда совершенно убедился, что мы живем в страшную эпоху перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Это говорит история, то же подтверждает эстетика. И теперь, окунувшись в глубь истории художественных образов и тем став неуязвимым для упреков в крайнем художественном радикализме, я могу смело и убежденно сказать, что […] мы — свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметет. А потому, без страха и недоверия, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, также как и за новые заветы новой эстетики. И единственное пожелание, какое я как неисправимый сенсуалист могу сделать, чтобы предстоящая борьба не оскорбила эстетику жизни и чтобы смерть была также красива и также лучезарна, как и Воскресение!
*Людерс Давид — немецкий художник, работавший в Российской империи в 1759 г.
03 марта 2024



